|
|
ответ для Эврика78 , на сообщение « http://www.verav.ru/common/mpublic.php?n... »
#61
|
|
|
Небожитель
Регистрация: 18.12.2008
Адрес: Васильевский остров, на линиях, у Невы
Сообщений: 15 951
|
Цитата:
|
|
|
|
Цитировать · |
|
|
ответ для _MONALISA_ , на сообщение « ФГОС - фатальная ошибка »
#62
|
|
Мега-элита
Регистрация: 31.03.2008
Адрес: Московский р-он
Сообщений: 4 222
|
Я читала эти документы и будущее в образовании, по-моему мнению, весьма не радужное.
|
|
|
Цитировать · |
|
|
ответ для Mitsuko , на сообщение « вы, мне помнится, поклонница жданова? »
#63
|
|
Мега-элита
Регистрация: 31.03.2008
Адрес: Московский р-он
Сообщений: 4 222
|
__________________
Путин все-таки догадается , что самым эффективным его представителем на дебатах может быть только лабрадор Кони.(с) (Littlemama)  |
|
|
Цитировать · |
|
|
ответ для Эврика78 , на сообщение « Не флудите. Мы сейчас о другом:004: »
#64
|
|
Небожитель
Регистрация: 18.12.2008
Адрес: Васильевский остров, на линиях, у Невы
Сообщений: 15 951
|
|
|
|
Цитировать · |
|
|
ответ для _MONALISA_ , на сообщение « ФГОС - фатальная ошибка »
#65
|
|
Мега-элита
Регистрация: 31.03.2008
Адрес: Московский р-он
Сообщений: 4 222
|
«Российское образование – 2020»: «дорожная карта» в никуда
«Как перед ней ни гнитесь, господа, Вам не снискать признанья от Европы. В её глазах вы будете всегда Не слуги просвещенья, а холопы». Ф. И. Тютчев. Коллектив авторов под руководством Я. Кузьминова и И. Фрумина в прошлом году разработал («при участии Всемирного банка и Международного валютного фонда») и опубликовал в «Издательском доме ГУ ВШЭ» стратегическую по замыслу модель трансформации отечественной системы образования в «лучшую систему образования глобального инновационного уклада» (Российское образование – 2020: модель образования для экономики, основанной на знаниях». М., 2008). Мы воспользовались приглашением авторов принять участие в «широкой и открытой дискуссии», поскольку они признают, что их «самые принципиальные соображения… нуждаются в тщательной проработке «дорожной карты» для реализации новых идей» (с. 5). Термин из лексикона внешнеполитического ведомства США в преамбуле к модели инновационной трансформации российского образования понуждает сразу же обратить внимание на чисто внешнюю атрибутику «дорожной карты» для России, - на стилистику этой «карты» и на ее интонацию. Честно говоря, такая установка позволяет обнаружить по «дороге к храму инновационного образования» целый ряд несущественных по содержанию «недоработок». Они начинаются с того, что авторам, издавшим свой текст на русском языке, судя по всему, неведомо чувство слова (русского, конечно). Создается впечатление, что местами они с буквоедской точностью делают перевод с иноземного языка на родную, должно быть, речь. В итоге вряд ли кто решится утверждать, что «там русский дух, там Русью пахнет». Правда, такого рода «недоработки» сами по себе вполне извинительны для переводчика-синхрониста.Но ведь «лучшую систему образования…» разработали и представили 10 (!) соавторов в докладе (!) «К IX Международной научной конференции…». Стало быть, этот текст заведомо продуман целым десятком поименованных соавторов, не считая тех безымянных, «при участии» которых и разыгрывалась очередная «дорожная карта» для России. Справедливости ради следует признать, что стилистические погрешности доклада нисколько не препятствуют пониманию его глобального назначения - выстроить «модель потребного будущего» (термин Н. А. Бернштейна) для системы российского образования. Дело в том, что отмеченные особенности стиля (и интонации, о которой - ниже) исчерпывают «глобальную инновационность» предлагаемой «модели образования-2020». По своей сути эта «модель-2020» (далее для краткости: М-2020) представляет собой не более чем эпигонскую вариацию на давно заданную тему, - на тему откровенно «заморских» документов по тотальной реализации идей болонской реформы системы образования. Бесспорная новизна и «глобальная инновационность» данного доклада представлена именно в его интонации, - беспрецедентной по своей безапелляционности и императивности. В прежние - международные по статусу - документы нужно было вчитываться, дабы отличать заманчивые декларации от сомнительных инструктивных предписаний. А вот доклад десятка россиян («при участии» ВБ и МВФ) не содержит ничего, кроме предписаний по окончательному развалу «совковой» системы образования. Авторы доклада признают, что «советское образование было одним из лучших образцов индустриальной эпохи (если не лучшим)», но считают необходимым «вырастить принципиально новую систему образовательных институтов, ориентированную на потребности постиндустриальной экономики» (с.4). Однако именитые сотрудники ГУ ВШЭ не могут не знать, что Россия стоит пред угрозой деиндустриализации (в частности, за годы реформ парк сельхозмашин сократился на 40-60%, капиталовложения в АПК уменьшились в 20 раз и т. п.). Тем не менее, своей М-2020 они навязывают нам совсем не лучший (если не худший) «образец» системы образования. Этот «образец» заимствован из той же индустриальной эпохи, но у особо «цивилизованной» (по нынешним временам) страны, система образования которой готовит топ-менеджеров, способных сообразить, что «мозги» предпочтительнее скупать в других странах (и не в последнюю очередь – в России). Так что нам «втюхивается» по канонам агрессивной рекламы (или даруется в порядке гуманитарно вспомощной интервенции) вполне заморский, но залежалый «интеллектуальный» товар. Сей товар не просто ляжет тяжелым грузом на едва шевелящиеся «моторы» поступательного развития страны. Через номинально инновационную систему образования он способен до 2020 г. надежно тормозить необходимое увеличение «оборотов», а затем, - дабы сохранить шум «моторов» - переключить их на «задний ход». Наше прогностически печальное предположение коренится в несомненных «успехах» еще не завершенной (по словам реформаторов) реформы, т. е. безотносительно к обсуждаемой М-2020. То ли еще будет по завершении реформ в системе образования, можно судить как раз по этому прожекту, несмотря на то (и отчасти – благодаря тому), что заведомо отрадные перспективы изображаются в нем зачастую излишне широкими или «остро-туманными» мазками. В контексте такой манеры изображения будущего по-своему неизбежны голословные уверения (не без намека на «гос-масштабный» авторитет их авторов), а также невнимание к содержанию основополагающих понятий и пренебрежение терминологической четкостью или использование терминов (например, «форсайт»), рассчитанных на «блестящую неопределенность». Подобные «издержки» текста (конкретные примеры тому читатель найдет далее) 10 номенклатурно-неуязвимых в своей учености авторов не могли допустить просто «по недосмотру». Создается впечатление, что, заполучив бонус от глобальных спонсоров и привычно уповая на вертикально-властный ресурс, авторы М-2020 почли «дело сделанным», а себя – свободными от необходимости доказательно обосновать саму суть дела, не говоря уж о детальной проработке текста. Перед ними стояла, скорее всего, совсем иная задача, с которой они по-своему успешно справились. Ведь понятийная неопределенность и терминологическая небрежность данного документа, пожалуй, призвана сокрыть именно суть дела. Вот это мы и постараемся доказать. Начнем с титула. Модель «Российское образование - 2020» нацелена, конечно же, на окончательную реформу былой системы образования. Однако самоцелью этой реформы является отнюдь не система образования, а сама реформа, т. е. «глобально инновационный» заказ на тотальную коммерциализацию всех систем жизнеобеспечения населения России. Реформаторы от образования менее всего озабочены совершенствованием собственно системы и системности образования в соответствии с внутренней логикой развития средней и высшей школы и с целями собственно педагогики. Их усилия исчерпывающим образом направлены на то, чтобы обеспечить статус наибольшего благоприятствования экспансии шарапно-рыночных отношений в сферу образования. Обратите внимание на то, что М-2020 есть «модель образования для экономики», а не для человека. Правда, речь идет о модели «для экономики, основанной на знаниях». Но ведь «образование» есть, конечно же, «система знаний». Так что «модель образования (как системы знаний) для экономики, основанной на знаниях», либо представляет тавтологию, либо задается исключительно той же экономикой, основанной на востребованных ею знаниях, но не на потребностях развития личности. В некотором смысле М-2020 изначально исходит из того, что «образование – как система формирования интеллектуального капитала нации…- создает базовые условия для быстрого роста рынков…(с. 4). (В скобках заметим, что термин «интеллектуальный капитал нации» есть метафора, - метафора пропагандистки тем более не бесхитростная, что по своему существу она является ложной. Метафора неявно облагораживает «капитал», придавая ему такую же универсальную или общечеловеческую ценность, какую в действительности имеет «интеллект». Между тем, даже корифеи ГУ ВШЭ еще не опровергли К. Маркса в том, что капитал есть исторически конкретный тип отношений между людьми. В рамках означенных отношений так или иначе накопленный интеллект может «сработать» подобно овеществленному /в средствах производства/ капиталу, но только потому, что последний воспроизводит на другой стороне не только невыносимую или сносную бедность, но и различные степени интеллектуальной ограниченности. Так что собственно «интеллектуальный капитал нации» формируется там, где капитал гарантированно воспроизводит, как минимум, интеллектуальное неравенство, а то и попустительствует распространению интеллектуального убожества. И уж ни в коем случае не образование «как система…», а именно капитал создает собственно базовые условия для экспансии рынка, в том числе - и на российскую систему образования.) В контексте сформулированной «сверхзадачи» авторы М-2020 нисколько не озабочены педагогическими проблемами. Для них система образования - не более чем пространство «для быстрого роста рынков». При этом они особо и не скрывают, что «инновационная экономика» (т. е. рыночный капитал) существенно деформирует систему высшего образования, ибо расщепляет ее на «массовый бакалавриат» (с. 26) и заведомо недоступную массам магистратуру. Более того, рыночный капитал подчиняет себе «как неформальное образование…, так и (по инновационной терминологии авторов) информальное (спонтанное) образование». Короче говоря, всякий «модуль» образования становится «для экономики – растущим сектором услуг» (с. 33). Поэтому сутью всей М-2020 в целом (а не только системы неформального образования, как отмечают авторы) «является переход от централизованных и жестко организованных траекторий профессиональной подготовки к свободной встрече широкого предложения образовательных услуг и многообразных потребностей в повышении квалификации, в освоении новых знаний и технологий» (с. 33). При этом нисколько не исключается вполне «информальная» система: мы вам – деньги, вы нам – дипломы. Взято отсюда http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=524 |
|
|
Цитировать · |
|
|
ответ для Эврика78 , на сообщение « «Российское образование – 2020»:... »
#66
|
|
Небожитель
Регистрация: 18.12.2008
Адрес: Васильевский остров, на линиях, у Невы
Сообщений: 15 951
|
|
|
|
Цитировать · |
|
|
ответ для Mitsuko , на сообщение « Танечик, вашим авторам тоже как-то »
#67
|
|
с Луны
Регистрация: 03.04.2007
Адрес: Город в городе/Aseri vald, Eesti
Сообщений: 32 597
|
Слушайте, люди, только честно - кто-то читает эти многобукФ-тезисы?
У меня, например, времени нету  На пальцах объясняйте, тогда люди к вам потянутся, автор...хотя, и в этом я тоже сомневаюсь 
__________________
жду сентября, как только клены станут разноцветными... Вдруг что-то хорошее стало происходить с моим сердцем; Ты знаешь, мне кажется, что это ты. 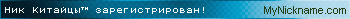
|
|
|
Цитировать · |
|
|
ответ для Китайцы™ , на сообщение « Слушайте, люди, только честно - кто-то... »
#68
|
|
Наш человек
Регистрация: 30.05.2010
Адрес: Стрельна
Сообщений: 5 412
|
Еще ночью пытались,
видимо автор не может в кратком изложении 
__________________
У людей нет недостатков, есть лишь достоинства, но некоторые из них раздражают (с) Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» 
|
|
|
Цитировать · |
|
|
ответ для _MONALISA_ , на сообщение « ФГОС - фатальная ошибка »
#69
|
|
Мега-элита
Регистрация: 13.01.2007
Адрес: пл. Мужества
Сообщений: 3 747
|
Это лечится или только купируется?
|
|
|
Цитировать · |
|
|
ответ для Татания , на сообщение « Какое занимательное чтиво :))
афтор -... »
#70
|
|
Хранитель
Регистрация: 10.11.2008
Адрес: Дерёвня
Сообщений: 14 265
|
|
|
|
Цитировать · |
Добавить сообщение |
|
|
| Перепечатка материалов запрещена без письменного согласия администрации и авторов. © 2000—2012 Littleone®. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод на русский язык - idelena |






